Наверное каждому из нас в какой-то момент приходится навсегда расставаться с близкими людьми. Истории ухода любимых, такие разные у всех, похожи в главном — они о необратимости, о неизбежности происходящего, о базовом смысле слова «последний».
Личный опыт долгого прощания с мамой писательница Марта Кетро описала в своем блоге. Это не только рассказ о том, как все происходило, что делали и чувствовали члены семьи Марты, но и советы тем, кому проститься с родными еще только предстоит.
С разрешения автора мы публикуем этот текст.
Мне, наверное, нужно купить синее платье. Потому что воспоминание о ней осыпаются, остаётся только её синее платье. Я была какая-то совсем маленькая, лет пяти или меньше, когда мы с родителями поехали на Курский вокзал покупать билеты в Крым. Родители встали в кассу, регулярно меняясь — один в очереди, другой со мной снаружи. И в какой-то момент я вижу, что мама в синем платье (с юбкой годе, отрезной талией и рукавами реглан) выходит из кассового зала и идет к пригородным поездам. Я за ней, а она поворачивается и заходит в поезд, но не в тамбур, а между вагонами как-то. Я в растерянности торможу, но тут меня хватают и оттаскивают назад. Мама говорит, увидела, как я ухожу с цыганами, меня уже за ручку взяли и повели на владимирскую электричку. Мама считала, что мне «отвели глаза», а я не знаю, но как сейчас вижу ее силуэт между вагонами — длинная шея, высоко заколотые волосы и синяя юбка, взметнувшаяся как-то слишком широко, будто подолом меня укрыла и понесла.

Неизлечимая болезнь: как меняются отношения в семье
Психолог Марина Травкова о том, как болезнь и смерть меняют отношения близких людей
***
Это будет тяжёлый текст. У меня была мама, теперь нет; я наблюдала последние две недели онкологического умирания с минимальным обезболиванием (так вышло). Это был... сложный опыт, я бы сказала. Его ценность для меня огромна и я увеличу ее, если поделюсь с тем, кому это предстоит. Говоря языком буддистов, все заслуги от этого текста я посвящаю маме.
В основном полезно для тех, у кого ни сиделки, ни больницы, ни хорошей паллиативной помощи. У нас, так уж вышло, не было ничего, только трамадол, восьмидесятилетний папа, моя сестра, которая умеет делать уколы, и я. Если у вас есть больше, технически будет легче. Выводы мои не безупречны и, возможно, справедливы только для меня.
Не нужно строить планов. Когда врач говорит, что остались дни, часы или месяц, это может быть правдой и может не значить ничего. Агония непредсказуема, полностью изношенный организм способен цепляться за жизнь долго, а относительно крепкий — отключиться внезапно. Поэтому придётся освободить максимум своего времени, в идеале — всё. Я сейчас говорю не о последних годах, а именно о последних днях, которые могут сжаться до нескольких часов или растянуться на месяц. У нас «дня три» продлились полмесяца, и я не готова оценить, было ли это благом — я успела повидаться, побыть рядом и проводить маму до конца, но для неё это были недели страдания. Она стонала, бредила, кричала — и жила, дышала этим страшным прерывистым дыханием — и жила, захлебывалась кровью — и жила. А я могла только держать за руку и повторять «потерпи, скоро всё пройдёт».
В практическом смысле было правильным отменить все планы, это не время живых, оно принадлежит умирающим, его нужно отдать.

Смерть, которой ждут
Епископ Пантелеимон — о собственном опыте переживания смерти близкого, христианском отношении к умиранию и утешении
В эзотерическом смысле стоит ни о чём не просить — ни удерживать, ни торопить. Повторюсь, это не наша история, мы можем только присутствовать, следуя рядом. Мы не знаем, как лучше, даже если чувствуем, что знаем.
Смерть — как самолёт, пока не долетит, не слезешь. Слегка похож на неё приход от веществ, там тоже вынужден досматривать до конца, даже если передумал.
Не «она умирает», а «мы вместе проживаем её болезнь до конца», мне это помогло. Мысль «она умирает» вызывает протест, ужас, чувство несправедливости, желание бороться. Для всего этого время ушло. Мы говорим не о том периоде, когда имело смысл сопротивляться, надеяться и требовать чудес. Теперь время спокойной усердной заботы.
«Спокойной?! Мне больно, страшно, у меня разрывается сердце от горя, какое может быть спокойствие?!».
Я щас непопулярное скажу, наверняка вредное и осуждаемое, но у меня есть такое право — я не психолог. Так вот, мои чувства тогда значения не имели. Нет, если хочется быть трагической балериной, танцующей в прожекторе своего горя, то кто же запретит.
Но когда есть амбиция служить своему умирающему и выполнить некий долг, который ощущаешь, тогда имеет смысл перенести бенефис на попозже. А в данный момент ты сиделка, обслуга его перехода, от тебя требуется сила, надёжность и методичность.
(Замечу в скобках, что это время, когда уже можно задействовать весь свой накопленный ресурс, не только финансовый, но и физический, и моральный. Если кто всегда собирался идти путем самурая, но никак случая не было, то этот день настал.
Внезапно оказалось, что это самое важное время для определения себя как части рода — ни рождение детей, ни другие процессы не дали мне такого ощущения своего места в цепочке белокожих женщин с похожими голосами, которые стоят у меня за спиной)
Иногда я на неё злилась. Она отказалась во-время делать операцию. Она не встала на полноценный онкологический учёт, и теперь у нас не было сильного обезболивания, хосписа, вообще ничего, кроме ограниченного количества трамадола, который нужно растягивать. И я, такая нежная, вынуждена всё это выносить.
Если бывает полезная злость, то эта была самая полезная в жизни, потому что навсегда отучила меня от конструкции «сама виновата». Никакая чужая вина и собственная правота не отменяют ни долга, ни жалости, ни любви. Не потому, что нехорошо так, а потому, что вина и правота ничего не стоят перед долгом, жалостью и любовью.

Как смотрит на болезнь и смерть христианин, мусульманин, буддист и иудей?
И что надо знать об этом сотрудникам и волонтерам хосписа
Как обеспечивать свое равновесие? Кому-то помогут мягкие успокоительные, типа валерианы, от которых не клонит в сон.
Я пыталась думать, что ухаживаю за человеком вообще, а не за своей умирающей мамой. Следила, чтобы «у него» была вода (они в самом деле хотят пить, всё правда. Много-много стаканов воды, которые кто-то должен подать — споить через трубочку, пропитать ватку и промокнуть губы — день за днём, ночь за ночью). Слушала бред, отслеживала момент, когда пора делать укол. Старалась сделать всё наилучшим образом и не чувствовать, что это умирает мама. Почти всегда получалось. А когда не получалось, например, она брала меня за руку так знакомо, сильно и тёпло, — я терпела.
Пыталась держать в уме, что это уходит не та молодая мама, ослепительно красивая в синем платье, о которой я теперь вспоминаю, а совершенно измученная, считающая смерть избавлением. Помогало слабо.
Она повторяла «дайте мне умереть», и я думала, что всё-таки можно искренне желать смерти. Но почти в самом конце она вдруг сказала: «Господи, если ты хочешь, исцели». Так я узнала, что жажда жизни бессмертна и надежда беспощадна, и это терзает моё сердце до сих пор.

«Смерть близкого – это опыт, который важно правильно пройти»
Психолог о чувствах, страхах и потребностях умирающего человека и его близких
Наплевавши на свои чувства, не следует плевать на тело. Придётся быть в порядке и в порядке неопределенно долго, сколько потребуется, поэтому важно организовать дежурства так, чтобы было время на сон, притом обязательно в другой комнате, не рядом с умирающим. Иначе ты ослабеешь и будешь плохо о нём заботиться.
Лично мне хватало четырех часов сна вечером, и двух с утра, на это время меня подменял папа. Ещё сколько-то отнимает еда и гигиена. Раз в пару дней нужно обязательно выходить из дома, смотреть на деревья, на снег или траву, что там у тебя по сезону, и на других живых — недолго и недалеко, в аптеку или в магазин, просто чтобы знать, что есть в мире многое кроме смерти. (Правда, когда в соседнем дворе я увидела легковушку с небольшим гробом на крыше, то несколько усомнилась).
В любом случае, будет получаться часов пятнадцать полноценного времени, которое можно провести возле умирающего. Больше — уже в ущерб качеству твоей заботы.
Я девица на диете, но в этот период питалась самой вкусной, не очень полезной, но хорошей едой — папа кормил меня бутербродами с красной рыбой и шоколадными конфетами. Менее здоровым людям не посоветую, но пусть будет другая пища, которая подходит, радует и не тяжела для тела. Если ко всем испытаниям ещё и быть несытым или жрать что попало, можно загнуться. Есть тоже нужно по графику и не пропускать. У меня получалось трижды в день — весьма здоровый режим.
При правильном ритме исчезнет ощущение «кусок в горло не идёт» — всё у вас пойдёт, если не переедать и пища будет достаточно соблазнительной.
Всё это вкусное и вредное баловство странным образом возвращало меня в детство, ведь мы снова были семьёй, как раньше — родители и две девочки. Только тогда никто не умирал. Теперь нас замкнуло в капсуле с остановившимся временем: за окном зима, в доме всегда сумерки, мы остались вчетвером и наблюдаем за смертью — и мама тоже, — смотрим, как она идёт за одним из нас. Иногда казалось, что это навсегда, и мы с сестрой так и состаримся там, рядом со страданием.

«Найдите в себе мужество просто быть рядом»
Как говорить о смерти с умирающим человеком
Нужна правильная одежда, чтобы зимой было тепло и не жарко летом.У нас выдался декабрь, отопление почти не работало, я бы мерзла, как собака, но у меня был жилет из юникло и кашемировые кофты — несколько штук, в которых я почти всё время ходила, иногда и спала. Кашемир от этого погиб, но я уцелела: когда совсем было плохо, я гладила тёплый пушистый рукав, и становилось легче. Пусть всё горит, но я хотя бы не мёрзну. И шерсть ко мне нежна.
Очень пригодилась удобная анатомическая подушка, на которой я сидела на полу — попа болит больше всего, когда столько сидишь, — и огромный тёплый плед из грубой шерсти, который собес подарил папе на восьмидесятилетний юбилей. Ага, клетчатый.
Умирающий требует постоянного внимания, засыпать не стоит, поэтому кстати пришлись всякие отвлекающие штуки, например, книжки в айфоне (наушники нельзя) и игрушки типа пасьянса косынка. Пока мама умирала, я играла в Merge Mansion (могло быть годным началом для книжки, достаточно ужасно звучит). И это хороший переход к следующему пункту — о чувстве вины.
Если хочется зачем либо испытать чувство вины, смерть даст отличный повод. Всегда найдётся что-нибудь, что можно себе не простить. Игрушку например, которой цинично развлекаешься. Или ты заснул, пока умирающий звал, а то и просто вышел попить чайку и пропустил последний момент.
Но кому чувство вины не нужно, те имеют право без него обойтись. Достаточно в полной мере делать всё, что по силам, и не делать того, чего не можешь.

Уход за человеком в конце жизни
Как лучше понять своего близкого и его потребности в последние дни и часы жизни
Я, например, панически боялась менять подгузники, хотя чувство брезгливости у кошатников атрофировано. Но каждое прикосновение причиняло маме боль, у неё такая белая тонкая кожа, что от всего оставались синяки. Я не могла. Зато я умела сидеть по ночам и слушать непрерывные стоны, а моей сестре это было невыносимо. Папа мог всё, но у него осталось очень мало сил. Поэтому мы разделили обязанности на троих и справились.
Тут должна быть сноска для тех, кто как и я, живет в другой стране. Родители мне всегда говорили «если что, не прилетай, ничем тут не помочь, одни расходы». Я не послушалась, прилетела и сделала всё возможное, чтобы облегчить процесс для всей семьи. К концу мы устали так, что шатало всех, один раз я упала в шкаф, как в плохом ситкоме. Не представляю, как бы они справлялись вдвоем.
Я бы выбрала прилетать в любом случае, даже если не успеваешь. Это такой ад, в который нужно спускаться всей семьёй и не сваливать, хотя соблазн устраниться велик. Врать не буду, без этого переживания я бы с радостью обошлась, но я предпочла это пройти, чтобы потом не мучиться виной.
Любая вина, которую себе придумаешь в процессе ухода за умирающим, будет ощущаться легче той, которую испытаешь, отсутствуя.
Хотя, по большому счёту, это по-прежнему не наш бенефис. Чужая смерть вообще тяжела тем, что ты там только статист. Ничего не изменишь, можешь только воду подавать. Можешь не подавать. Но тебе же легче, если подашь.
В целом же не приехать — не преступление, каждый берёт себе ношу по силам. Если невыносимо, не делайте этого.
Для себя я осознала довольно спорную вещь: умирающему в целом всё равно, сколько вокруг него людей и насколько тщательно за ним ухаживают, если он уже давно в бреду. Мы не берём крайности, но в среднем, когда человек в чистой постели, с уколами и в тепле, не очень важно, бросаются ли к нему на каждый стон или заходят раз в час. Время смерти субъективно, оно мгновенно или растягивается на вечность — от других людей не зависит.
Но есть некий ритуал, который важен для живых, он говорит: я сильный, я не бросаю своих; и меня не бросят, когда придет мой срок. Понимание этих двух вещей в некоторой степени освобождает от страха жизни и смерти. Не полностью, но с ним легче.
И это безусловно редкая возможность отделиться от времени и посмотреть на него со стороны. Ты находишься в чужом измерении, оно течет по своим законам, не вполне совпадающими с твоими. Есть нечто особенное в том, что перестаёшь быть центром вселенной и становишься тенью возле кровати.

«Оставьте меня в покое, но не оставляйте меня одного»
Если ваш близкий уходит дома — как вы можете ему помочь
При всей необходимости заботы, нужно вовремя оставить умирающего в покое. Врач последней прижизненной скорой посмотрела на нас с недоумением — хотите повернуть и поменять подгузник? Оставьте, уже не надо. Укол? Можно в руку или ногу, не надо ее тревожить, синяк будет — не страшно.
Наступает такой момент, когда делать всё тщательно и наилучшим образом уже незачем — не пропустите его. Просто сидите рядом не суетясь. Воды уже не надо.
Ночью, очень тихо, чтобы не разбудить папу, спящего в соседней комнате, я пела ей колыбельную. Киска брысь, киска брысь, на дорожку не садись, киска брысь, киска брысь, на дорожку не садись, а то Тонечка пойдёт, через киску упадёт. Киска брысь, киска брысь. А киска всё не уходила, жалась ко мне в темноте и ждала.
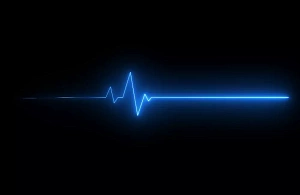
Последний фейерверк: что происходит с телом, когда мы умираем
Когда человек приближается к смерти, в его теле происходят изменения: дыхание, кровообращение, сознание
— Подойди, пожалуйста.
— Подожди, посуду домою.
— Подойди, пожалуйста.
— Ну подожди, я по телефону говорю!
— Да подойдите же вы, она, кажется, не дышит.
На самом деле они уже действительно могли договорить и домыть посуду спокойно. Но в тот момент мне так нужно было что-нибудь сделать, что я пошла за пудреницей и проверила — стекло не запотело.
Надо быть готовым, что начнёшь метаться, щупать пульс, искать тонометр, не знаю, что ещё, но трудно сразу принять, что всё кончилось так, в секунду. Вся эта долгая жизнь, вся эта долгая смерть.
В 112 стоит звонить прямо сразу, они все очень медленно едут, последняя служба от нас уехала только через семь часов.

Текст для всех, кому когда-либо придется кого-то хоронить
На что мы имеем право, организуя похороны близкого человека, и какой может быть церемония прощания
Разговаривать со 112, скорой, полицией, мошенниками и труповозкой (да, они сами так и говорят, не дергайтесь), должен самый вменяемый, спокойный и социально адаптированный член семьи. И это внезапно ты. Беспокоиться не надо, должно появиться второе дыхание — наступает большое облегчение, когда в доме никто не умирает. В дверь среди ночи позвонил огромный чувак в кожаной куртке и с неопределенной ксивой, и я задвинула папу за спину, распушилась, как кот, и не пустила его на порог. Наверное, это выглядело так забавно, что сработало.
Для дальнейших действий есть определенный порядок и определенные ловушки, которые придется избегать, нельзя делегировать это всё людям пожилым или нервным, пытаться как-то разделить между всеми.
Делай всё сам, всё держи в уме, записывай на бумажку, составляй планы, вычёркивая лишнее, подсчитывай расходы и постоянно проговаривай остальным, что мы сейчас делаем, что должны, а чего не делаем.
Плакать имеет смысл, когда заберут тело, ну и потом, когда порешаешь с моргом и кладбищем, в конце рабочего дня. На похоронах опять же. Ну и уже после всего — сколько угодно. В смысле, не то что плакать нельзя, но когда была возможность держаться, я держалась, слёзы обессиливают. И, да, сколь бы ни был сложен процесс похорон, лучше не соскакивать и везде присутствовать, даже если не любишь морги, кладбища, церкви и поминки. Круто, если есть кто-то другой, но я пишу на тот случай, когда остальные либо старше, либо слабей.
Будь вежлив со своей семьёй, с которой это проходишь. Да, я выбрала именно то слово — «будь добрым, любящим, поддерживающим» звучит лучше, но на практике едва хватит сил даже на вежливость. В стрессе, да ещё затяжном, люди тупят, раздражаются, ссорятся, орут, суетятся, говорят чудовищные или просто идиотские вещи. Да, и ты тоже — длительное напряжение растормаживает психику. Поэтому, если хотя бы постараешься не повышать голос и сумеешь их благодарить за каждую мелочь, это уже много.Тем более, вы правда молодцы, вы прошли вместе самый страшный и неизбежный квест — проводили и похоронили человека вашей крови. Страшный, неизбежный и не последний, но теперь вы уже знаете, как это бывает. Вы справились.

Люди не выдерживают чужую боль
О том, что можно сделать для человека, потерявшего близкого. Личный опыт
Это ещё не конец. Некоторое время ты останешься травмированным, неважно, не прошедшим горем или стрессом от свидетельства смерти близкого человека. Ты можешь вести себя несколько странно, не всегда это будут слёзы. У меня, например, есть повторяющаяся реакция: мне всё время хочется говорить об этом, притом совершенно светским тоном, в режиме small talk: а вот, кстати, когда моя мама умирала... Вы не представляете, сколько поводов в течение дня подкидывает жизнь, чтобы произнести эту фразу. Всегда найдётся пост или разговор, где это придётся к слову. (Вероятно, весь этот рассказ продукт того же невроза, замаскированный под помогающий текст). А уж если случайно спросят прямо, то очень трудно не рассказать всё как было, со всеми кровавыми подробностями.
Не знаю, насколько прочны ваши близкие, но в среднем люди не очень хорошо выносят такие реплики, да еще неожиданно. Лучше отнести всё психологу, они готовы с этим справляться за деньги.
Но мы в любом случае имеем право об этом думать, говорить и писать, опыт необходимо так или иначе избыть, просто с осторожностью к окружающим.
Легко не будет. Я смотрю Wednesday и думаю «у нас с мамой было не так...». Встречаю диалектное словечко и думаю «мама ругалась „собачье мясо“, а теперь никто больше так не скажет, разве только я».
Кто-то говорит «мама» и я думаю: у меня больше нет мамы. Отмечаю без истерики, но я всё время об этом думаю.

Работа горя
Пережить — значит осознать случившееся, принять изменения, адаптироваться и постепенно заменить боль на спокойную память
Чуть позже всё пройдёт. Её по-прежнему не будет, но я перестану постоянно держать это в уме. Когда-нибудь.
Кроме своей печали мне осталась боль того, кто любил ее больше меня. Папа стоял на лестнице и смотрел, как забирают её тело, а я понимала, что в чёрном мешке уносят его жизнь. Потом, весной, я к нему приехала и ходила по дому в её халатах. Один, синий, страшно линял, и у меня были голубые пальцы. Но в нём ещё оставался неуловимый живой запах, и у папы снова была кудрявая женщина в чём-то тепленьком, о которой можно заботиться. А маме он дважды в неделю приносит белые цветы, чаще гвоздики, она их любила больше роз. «А лилии нельзя, у неё от них голова болит».
Для точного определения чувств нашёлся мой старый текст, ему лет пятнадцать и он многое объясняет.
«Моя мама, женщина за шестьдесят, погружена в свои болезни и в свою веру, и я давно смирилась с тем, что потеряла её, — точно так же, как родители теряют нас, когда мы вырастаем. Она сейчас занята страданием и спасением души, а для меня совершила лучшее из всех возможных материнских благодеяний — оставила в покое. Но и изредка мне снится один и тот же сон, от которого я просыпаюсь в слезах.
Вот и сегодня приснилось, что она собирается уплыть в море — навсегда. И, в сущности, это идеальное решение и чудесный подарок: забрать свою надвигающуюся старость с глаз долой и освободить место. Я не увижу её болячек и смерти, уберегусь от участия во всех этих грядущих безобразиях, её портящийся характер не станет мне досаждать, а чувство вины за недостаточную любовь и заботу не съест мою печень. Я знаю, что не буду о ней скучать, — сейчас мы видимся раз в три месяца, изредка разговариваем по телефону и только поэтому не раздражаем друг друга до зубовного скрежета. Но если оставить нас нос к носу на неделю, клянусь, я на третий день выброшу из головы, что мама нездорова, а она забудет о христианском смирении, и мы начнем сражаться с яростью языческих гладиаторов.
И вот теперь я узнаю, что этот человек собирается сесть в лодку и удалиться куда-то за горизонт, а там его ждёт большой корабль, на котором он уплывет ещё дальше, навсегда, увозя с собой все существующие и будущие проблемы. И вместо того, чтобы обрадоваться или просто принять этот факт спокойно, я начинаю метаться по берегу и кричать.
Я кричу, что она не смеет так поступать. Не говоря о том, что это опасно для нее, подло и несправедливо оставлять меня одну, когда я в ней так нуждаюсь и люблю. В моих воплях нет ни слова правды: не одна, не нуждаюсь, я первая её оставила, когда выросла, и перепутать с любовью наше вооруженное перемирие может только приютский сирота, ни разу не видевший нормальной семьи.
Но я ору, и чем дальше, тем больше правды становится в этих воплях. И в тот момент, когда они превращаются в настоящую беспримесную истину, она обходит меня по широкой дуге, садится в лодку и уплывает, а мои крики, выглядящие, как печатный текст на плакатах тридцатых годов, застывают в воздухе кривыми строчками: «Ты оставляешь меня одну и не берёшь с собой! Мама, не уходи! Мама, я люблю тебя! Мааамаааааа!». И на этом я просыпаюсь, совершенно зареванная и с одной только мыслью в голове: «Моя мама села в лодку и уплыла».
Так вот, сон сбылся, всё оказалось правдой. Она уплыла, а я иногда задыхаюсь от жалости и любви.
Я боялась, что впечатления её последних дней будут меня преследовать, но нет, кошмары стали чаще, но другие. А сама она приснилась только один раз, когда я летела из Москвы — раньше она всегда за меня молилась в эти часы, а теперь я была одна. Но в воздухе мы становимся ближе к мёртвым, и во сне она радостно болтала и хихикала. Так понимаю, там у неё всё хорошо.
Наверное, нужно купить синее платье, только не отрезное, мне не идёт.
Перепечатка материала в сети интернет возможна только при наличии активной гиперссылки на оригинал материала на сайте pro-palliativ.ru.
Запрещается перепечатка материалов сайта на ресурсах сети Интернет, предлагающих платные услуги.
Фото на обложке: Алексей Конин







