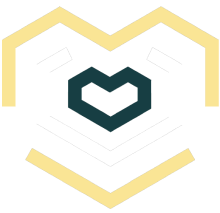Отношение общества к смерти. Из книги «Посреди жизни»
 Почему, несмотря на неизбежность смерти, мы стараемся о ней не говорить, и как влияет этот «заговор молчания» на детей, потерявших близких
Почему, несмотря на неизбежность смерти, мы стараемся о ней не говорить, и как влияет этот «заговор молчания» на детей, потерявших близкихОтношение общества к смерти. Из книги «Посреди жизни»
Почему, несмотря на неизбежность смерти, мы стараемся о ней не говорить, и как влияет этот «заговор молчания» на детей, потерявших близкихКнига лондонской медсестры Дженнифер Уорф «Посреди жизни» — уже знакома нашим читателям. Мы публиковали из нее фрагмент о докторе Элизабет Кюблер-Росс, авторе концепции пяти стадий переживания горя. А недавно коллеги из издательства «Лайвбук» переслали нам письмо переводчика русского издания Ирини Тихоновой-Борсатò. Оно не вошло в книгу, но нам показалось важным, чтобы его прочитало больше людей. Это письмо о том, как книга воспоминаний о событиях почти 70-летней давности вдруг стала созвучна тому, что происходит сейчас в связи с пандемией коронавируса.
Вместе с письмом мы публикуем еще один фрагмент из книги. Он — об отношении общества к смерти и о том, какую роль играет смерть близких в жизни детей.
Современное общество буквально заставляет нас воспринимать болезни, неприятности, любое страдание и горе, как невозможность счастья. Что-то сломалось — почини, заболело — вылечи, начало угасать — реанимируй, спаси любой ценой. Эта продуктивность и ориентированность на благоденствие можно сказать, отменяет смерть, отрицает страдание и умирание, не оставляя им места в счастливой, гармоничной жизни. Однако вся жизнь — не что иное, как набирающая обороты потеря: молодости, здоровья, близких, самой жизни.
Принятие жизни такой, какая она есть, механизма, согласно которому мы неизбежно стареем и умираем, могло бы позволить нам жить в моменте, здесь и сейчас, испытывать эмоции, не всегда позитивные, но тем не менее учиться выражать их, быть подлинными. В той реальности, которая на самом деле с нами происходит.
В книге, которую вы держите в руках, Дженнифер Уорф предлагает поговорить о смерти. Мы смертны, без исключений — и эта прямота и неподдельность, с которой писательница говорит: мы все умрём, заставляет остановиться и воскликнуть: хорошо, и что в этом такого? Давайте поговорим тогда уж о том, какой должна быть наша смерть, можно ли к ней подготовиться, можно ли быть спокойными перед ее лицом? Как я хочу умереть? И зачем я здесь, какова моя задача?
Завершать перевод этой книги мне довелось в самый разгар пандемии Covid19. Я клинический психолог, психотерапевт, по большей части работаю с тяжело и неизлечимо больными пациентами, с их близкими с одной стороны, и с медицинскими работниками — с другой. Во-многом, моя задача заключается в том, чтобы помочь принять диагноз, научиться с ним жить, научиться заново общаться с меняющимися во время болезни близкими, пережить утрату, подготовиться к смерти, а также помочь врачам и медсестрам выстроить коммуникацию с пациентами, которые проходят сложный, и часто завершающий этап своей жизни. Когда наступила эпидемия, мир изменился. Страх заболеть и умереть пронизывал все сущее. А те, кто сражался с тяжелыми болезнями, например, онкологические пациенты, были буквально отрезаны от жизни. Все общение свелось в онлайн. Но иногда и это было невозможно.
Прозвучит странно, но эта книга, работа над ее переводом, помогла мне лично не сойти в этот период с ума. Пока я наблюдала переполненные реанимации, спасенных пациентов, огромное число погибших, слушала отчаявшихся, обезумевших от горя, неопределенности и страха пациентов и их родных, я злилась на Дженнифер Уорф. Нужно бороться до конца, что за малодушие — смириться с тем, что смерть неизбежна. Я же вижу спасенных, я же знаю, что наука многое может. Нужно сражаться со смертью, нужно верить, нужно… И в то же время многое, очень многое из происходившего напоминало штурм неба. Реанимация тех, кому оставались считанные часы, вместо возможности побыть с родными. Но кто же решит, что это считанные часы? Если это возможность и ее упустить? Кому дано знать? Кто понесет потом ответ? Все эти вопросы были и в книге. Когда-то ими задавалась и эта талантливая медсестра, пианистка, писатель..
Таинство смерти, кротость и тишина, смирение, одиночество, страх умирания, потеря контроля, смысл жизни, надежда, вера, трепет, отчаяние, усталость, гнев, очень много любви, проявленной в самых немыслимых формах. Переводя книгу, я переживала все то, о чем пишет Дженнифер Уорф. Неизбежность смерти. Неизбежность жизни, берущей надо всем этим верх.
Да, бесспорно, в книге есть небольшие медицинские недочеты, все-таки медицина 50-х отличалась от современной, и квалификация Дженнифер Уорф не могла покрыть все области медицины, и при переводе все эти ошибки сохранены, для максимальной достоверности и близости к оригиналу. И это несовершенство делает книгу еще ценней. Потому что в очередной раз показывает, что человек не всесилен, что мы не знаем так много, но знаем больше, чем в прошлом веке. Однако и тогда и сейчас, казалось, что наука может почти все. Надежда ли это на то, что многие болезни удастся лечить? Предупреждение ли о нашей интеллектуальной гордыне, храбрящейся перед лицом вечности? Напоминание о нашей смертности? Смерть придет за каждым из нас вне зависимости от того, хотим мы того или нет. В этой книге, я уверена, каждый найдет над чем поразмышлять. Она, действительно, стоит того, чтобы ее прочесть.
Ирини Тихонова-Борсатò клинический психолог, психотерапевт научный журналист
Италия, 2020

Дженнифер Уорф
Сейчас большинство людей умирает в больницах, а не дома, как в прежние времена. Наш страх питается ожиданием этой смерти. Мы не подходим близко к умирающему, мы не смотрим на его тело, и даже если в момент смерти человека родственники находятся рядом с ним, в больничной палате, тело быстро уносят, чтобы его больше не видели. У многих нет контакта со смертью ни до, ни во время, ни после самого события. И все же смерть — изначальная, примитивная, нагая, хоть и скрытая занавесом — остается, и человеческое воображение не может этому сопротивляться. Нам нужно хоть одним глазком взглянуть на нее, и мы приподнимаем угол занавеса, чтобы ощутить этот трепет, смешанный со страхом. Средства массовой информации знают об этом желании и подпитывают его, показывая насильственную смерть во всех подробностях. Кинопродюсеры стремятся продемонстрировать нам самые страшные и кровавые картины.
И выходит, что это именно то, что большинство людей знает или хочет знать о смерти. Были попытки реалистично показать по телевидению, как умирают люди. Была даже пара случаев, когда снимали реальных умирающих. Не могу судить о том, полезно ли это. С одной стороны, такие съемки показывают, что смерть — время не физической боли или душевного смятения, а покоя и умиротворения. Кому-то это придаст уверенности. С другой стороны, это всего лишь «виртуальная реальность» — но, возможно, именно ее и хотят люди? Снять тихое умирание человека в своей постели, чтобы зрители могли получить представление о происходящем, — похвальная затея, но вряд ли она поможет кому-то понять, что действительно происходит. Только у того, кто был на деле рядом с умирающим и видел смерть во всей ее устрашающей тайне, может возникнуть проблеск понимания — и то всего лишь проблеск. Ведь в этой картине есть и духовное измерение.
Бог живет не в церквях, мечетях или синагогах. Его дом не в храмах и минаретах. Бог не собственность священников, раввинов или мулл. Бог стоит у смертного одра, нежно извлекая живую душу из умирающего тела. Бог живет в горе и страдании тех, кто остался на земле, кто уловил — пусть на краткие секунды — этот проблеск понимания того, что такое смерть и что такое жизнь.
Реальность не увидишь на телеэкране. Близость к реальной смерти неизбежно означает близость к нашей смертности как таковой, к вопросам о том, что такое Бог. Возможно, у нас не хватает сил это принять. Если мы не можем найти духовного начала в жизни, смерть становится неприятным напоминанием об отсутствующем измерении. Стоит совершить путешествие в совсем другое общество и пообщаться с людьми, более близкими к природе, чтобы увидеть другое отношение к смерти.
В 2007 году, когда я была в южном Марокко, одна молодая мусульманка пригласила меня к себе домой выпить чаю с ее семейством. Мы вошли через дыру в стене и прошли по длинному темному коридору к тускло освещенной маленькой кухне. В центре пола было место для очага, а дыра в потолке выпускала дым и впускала дневной свет. Затем мы прошли из кухни в большую комнату, примерно тридцать на двадцать футов. На земляном полу лежал красивый ковер, а вдоль стен были разбросаны подушки, чтоб на них сидеть. Свет проникал через высокие окна, а на низких столиках стояли масляные лампы. Высокие стены были завешены шелковыми драпировками. Комната выглядела красивой и нарядной. Второго этажа не было, так что эта комната вместе с кухней и являлась домом для всей семьи. Вошли другие женщины и дети, которым не терпелось увидеть незнакомку. Хозяйка дома на хорошем французском языке пригласила меня присесть, пока она готовит чай. Подушки были очень низкими, и я опасалась на них садиться: хороша же я буду при попытке с них встать! Увидев что-то похожее на более высокие подушки, я направилась туда. Женщина, должно быть, прочитала мои мысли, а если и нет, то в любом случае она заговорила вовремя.
— Это моя бабушка, ей почти сто лет. Она близится к концу своей жизни, и Аллах скоро придет за ней.
Одна женщина готовила, другая кормила ребенка, вокруг бегали дети, а старушка умирала. Вот оно — реалистичное принятие смерти. Дети отнесутся к этому спокойно, как это всегда бывает с детьми, и они вырастут, считая смерть естественной частью жизни.
Вероятно, в этой комнате им доводилось видеть и рождение, и, хотя никто не говорил им об этом, они впитали в себя осознание того, что рождение, жизнь и смерть — части единого целого. А вот мы этого не осознаем. Мы слишком заняты тем, чтобы получать и тратить. На смертном одре тишина, мгновенная остановка времени — но какое они имеют отношение к суете и бесконечной гонке нашей жизни? Смерть? Что нам до нее? Мы хотим жить, жить, жить — и не будем о грустном. Мы хотим секса, развлечений, острых ощущений — и не будем о скучном. Мы хотим денег, карьеры, обладания — и не будем о занудном. Друзья, отношения, путешествия — вот что нам нужно. Смерть в наши планы не вписывается. Вон! Мы все умрем, хотим мы того или нет. Но если сейчас мы не позволяем себе приблизиться к смерти, потом нам труднее будет ее принять.
Если бы мы могли видеть бесконечное разнообразие эмоций, прозрений, переживаний и простых радостей, которые даются людям по мере приближения к концу, если бы мы знали, как порой расцветают понимание и любовь на закате жизни, если бы мы были свидетелями того спокойствия и умиротворения, которые снисходят на человека в последние часы перед смертью, мы бы меньше боялись.
В той прогретой солнцем комнате в Марокко берберские дети видели покой, сопряженный со смертью.
Но нам почему-то кажется, что детей нужно от этого уберечь. «Он слишком маленький, не надо говорить ему о таком, он расстроится». О, сколько раз я слышала это! А однажды слышала даже и такое (забавно, что собеседник называл себя убежденным атеистом): «Мы не знали, что ей сказать, поэтому объяснили, что бабушка ушла жить с ангелами на небо». Такая гиперопека не нужна и вредна. Вырастет новое поколение, далекое от реальности, и оно, в свою очередь, не захочет контакта ни со смертью, ни с умирающими. Родители, которые думают, что защищают своих детей от неприятных сторон бытия, обрекают самих себя на смерть в одиночестве. И в то же время дети постоянно видят насильственную смерть в кино, по телевидению и в компьютерных играх. Их завораживают ужасы, ограничения по возрасту легко обойти, так что дети видят, как люди режут друг друга и причиняют другим немыслимые страдания. И это то самое поколение детей, чьи родители считают, что их малыши слишком чувствительны для любого контакта с естественной смертью. Какая ирония!
Много лет назад важную роль в моей жизни сыграл Антоний Сурожский (Блум), епископ Русской православной церкви в Англии. Как-то он сказал, что, приехав впервые в нашу страну, он пришел в ужас от здешнего отношения к смерти. Будучи русским, он принадлежал к народу и к церкви, которые считали смерть естественной частью жизни — чем-то, что нам всем предстоит, что мы знаем, видели и принимаем. А в Англии он обнаружил, что смерть здесь рассматривается чуть ли не как непристойность, как что-то вызывающее глубокое смущение — и конечно, это ни в коем случае не тема для разговоров. Как это ни удивительно, как ни жутко, осмысленный контакт со смертью был здесь редкостью. Однажды он посетил английскую семью, где умерла горячо любимая бабушка. Она умерла дома, вся семья горевала, кроме детей — их рядом не было. Он поинтересовался, где они. Выяснилось, что детей отослали, потому что они не должны видеть «такого рода вещи». Он удивленно спросил: «Но почему?» И отец семейства был шокирован: нет-нет, это совершенно немыслимо! Оказывается, дети уже знали, что такое смерть: они видели, как собаки загрызли и наполовину съели кролика в саду. Дети тогда ужасно расстроились, и родители решили отправить детей подальше: вдруг они забредут в комнату бабушки, когда она будет умирать? Или, что еще хуже, вдруг они увидят ее мертвой и совсем расстроятся? Нет, этого родители не могли допустить. Неужели родители действительно хотели, чтобы дети думали, что их бабушка теперь похожа на растерзанного мертвого кролика? У детей очень развито воображение. Они бы почувствовали, что здесь что-то не так: во взглядах взрослых, в их приглушенных голосах, незаконченных фразах — «об этом не при детях». Или даже хуже, им бы рассказывали какую-нибудь глупую ложь о состоянии бабушки, а они бы не верили и не понимали. А кроме того, отослать детей прочь в момент семейного кризиса — значит поселить в них тревогу и страх. Воспаленное воображение может породить любую зловещую историю про то, что происходит с бабушкой, — как будто это так ужасно, что на это даже нельзя смотреть.
Детей просто убрали из дома. И они были лишены возможности увидеть истинную тайну и благородство смерти, которые любой ребенок способен понять. Им не позволялось видеть медленное угасание их бабушки, ее тихую неподвижность, чувствовать атмосферу покоя и умиротворения, почти святости, которая окружает только что умерших. Им оставалось только придумывать страшные истории.
А когда они вернутся домой, бабушки уже не будет. Не будет последних дней, когда они могли бы сказать ей, как они ее любят. Не будет возможности попрощаться, привыкнуть, не будет похорон — просто не будет ничего.
Медицинским редактором этой книги любезно согласился быть кардиолог и врач-консультант Дэвид Хекетт. Его жена Пенни — медсестра, ее семья родом из Ирландии. Однажды прекрасным весенним утром я сидела на их большой кухне, чьи широкие окна выходили на холмистые поля и леса Хартфордшира, и рассказывала об этой книге. Была пора школьных каникул, так что дети находились дома. Дэвид произнес:
— Моя теща умерла в две тысячи пятом году. Это было в Ирландии. Мы положили ее тело в гостиной, таков обычай. Родственники и соседи пришли засвидетельствовать свое почтение и попрощаться. Мои дети тоже приходили посмотреть на свою бабушку и прикоснуться к ней. Не думаю, что это их сильно расстроило. Я повернулась к детям и спросила:
— Вам страшно было видеть ее мертвой?
Мальчик лет тринадцати посмотрел на меня с характерной подростковой гримасой — «вот еще один глупый взрослый задает глупые вопросы!» Девочка, которая была года на два постарше, сказала: «Ну нет… нет, не совсем так… просто…», пожала плечами, а потом, немного подумав, добавила:
— Это выглядело… обычно. Казалось, что она просто спит. Просто очень спокойная. Она посмотрела на брата, он кивнул: «Угу» и продолжал жевать свои гренки. Люблю немногословных мужчин! Очевидно, никто из них не был сильно расстроен и уж тем более травмирован, вопреки ожиданиям некоторых людей.

Я обедала со своим старым другом Марком. Мы говорили о моей будущей книге, и вдруг он сказал:
— Знаешь, а ведь моя мама умерла в тысяча девятьсот пятидесятом, но нам, детям, так никто об этом и не сказал. Много лет спустя они узнали, что у их матери Джулии возник флебит — видимо, после рождения четвертого ребенка. Тромб оторвался, попал в кровоток и в конце концов закупорил легочную артерию. Это и стало причиной смерти. Марку тогда было девять лет, его брату Роберту — шесть, а сестре Мэриэн — четыре с половиной. Была еще малышка по имени Фиона, которой было около года. Сейчас им всем уже за шестьдесят, и я недавно с ними беседовала. Оба мужчины рассказали мне, что помнят, как к дому подъехала машина скорой помощи и увезла маму. Некоторое время спустя (скоро ли, нет ли, они не помнят) друзья семьи взяли мальчишек с собой отдохнуть на взморье. Впоследствии братья решили, что именно тогда их мама умерла и ее похоронили. Потом за ними приехал отец и забрал их домой. В дом, где уже не было мамы.
— Было очень тихо и мрачно, и мы не понимали почему, — сказал Марк. Роберт добавил:
— Это было похоже на черную дыру, о которой нельзя было говорить. Никто, конечно, не запрещал, но дети многое понимают без слов. Мы просто знали, что взрослым это не понравится. И я поинтересовалась:
— Так что, вы не спрашивали?
Спрашивали. И получали туманные, невнятные ответы, в духе «мама ушла на небеса». Потом один из мальчиков спросил, где их сестра Мэриэн. Оказалось, что ее увезли к бабушке. Сама Мэриэн вспоминает то время как очень грустное.
— Мы с бабушкой не были близки. Я чувствовала себя одинокой, сбитой с толку, все время думала, почему я там, а не дома. Иногда меня навещал папа, а потом снова уезжал. Но он никогда не приводил маму, и я не знала почему. Я думала, что, может быть, я плохо себя вела и она не хочет меня видеть… Примерно через полгода отец забрал Мэриэн домой. Она вспоминает, как бегала, заглядывала во все комнаты и кричала: «Где мамочка? Где она сейчас?» Отец сказал: «Мама в раю». Девочка не унималась. «А где же рай? Как она туда попала? Ты ее туда отвез? Поезжай и забери ее обратно!»
Но в конце концов Мэриэн, как до того и ее братья, поняла, что об этом просто не принято спрашивать. Я слишком мало знаю о детском горевании, чтобы о нем рассуждать. Однако специалисты много говорят о там, какую катастрофу означает потеря матери для развития ребенка. Страхи и болезненные фантазии, депрессии, бесконечные поиски, низкая самооценка, плохая успеваемость в школе, одиночество и невозможность завести друзей — эти и многие другие психологические нарушения неоднократно обсуждались и описывались. И среди них не последнее место занимают чувство вины и самобичевание.
Марк рассказывал: — Я все время чувствовал, что это из-за меня, и не мог говорить об этом ни с Робертом, ни с Мэриэн. Понимаешь, я был старшим и непослушным. Всегда делал что-то, что расстраивало маму. И я думал, что я, наверное, сделал что-то настолько плохое, что она совсем расстроилась, ушла и больше не вернется, и я во всем виноват.
— Пока я была с бабушкой, мне казалось, что меня наказывают за что-то плохое, — вспомнила Мэриэн, которой в ту пору было четыре года.
— Смерть матери тяжела для любого ребенка, — добавил Роберт, — но из-за этого заговора молчания для нас все это было в десять раз тяжелее. Но я забыла рассказать о четвертом ребенке Джулии— ведь их было не трое, а четверо. Малышка Фиона воспитывалась отдельно от братьев и сестры: дядя и тетя растили ее как собственного ребенка. Фиона рассказала мне, что была слишком маленькой в момент смерти Джулии, ничего не помнила и выросла в убеждении, что Марк, Мэриэн и Роберт — ее кузены. Было решено, что так будет лучше: ведь девочка такая маленькая. Ей даже рассказывали о смерти Джулии, но Фиона не думала, что это имеет к ней какое-то отношение.
— Когда же вы узнали? — спросила я.
— Когда мне исполнился двадцать один год и для получения визы мне потребовалось свидетельство о рождении. Но даже после этого я много лет не могла свободно обсуждать прошлое. Могу только сейчас, когда моих родителей — ну, тети с дядей — уже нет в живых.
Во время того нашего обеда с Марком, который я так хорошо помню, он произнес:
— Знаешь, теперь я понимаю, что всю жизнь что-то искал, но так и не нашел.
Повисло тяжелое молчание, и я не нашлась, что ответить. Табу на все связанное со смертью глубоко укоренилось в нашем обществе, и это очень нездоровая ситуация. Как так вышло? Как это прокралось в нашу жизнь? Люди, жившие в Викторианскую и затем в Эдвардианскую эпоху, упивались сценами смерти и похорон. Почему маятник качнулся из одной крайности в другую — настолько, что теперь смерть нельзя видеть и о ней нельзя говорить? У меня есть теория (которая, конечно, требует дальнейшего обдумывания), что это началось после Первой мировой войны 1914–1918 годов. Восемь с половиной миллионов молодых людей по всему миру, погибших в сражениях, двадцать один миллион искалеченных, а потом свыше сорока миллионов умерших от гриппа во время эпидемии 1918 года. На этом дело не кончилось, были и другие мясорубки. Самый кровавый век в истории принес гибель чуть ли не полумиллиарду мужчин, женщин и детей. Все были так измучены смертью, потерями и горем, что, быть может, просто не могли дольше терпеть и отвернулись. Так была создана атмосфера отрицания, которой мы дышим по сей день.
Радость, скорбь — узора два
В тонких тканях божества.
Можно в скорби проследить
Счастья шелковую нить.
Так всегда велось оно,
Так и быть оно должно.
Радость с грустью пополам
Суждено изведать нам.
Уильям Блейк, «Прорицания невинности»
Купить книгу «Посреди жизни» можно по ссылке.
Использовано стоковое изображение от Depositphotos.